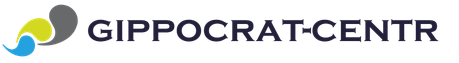В начале XIX веке проявлением духовной революции стало зарождение оригинального русского философствования. По истории русской философии сейчас существует обширная литература, среди которой особенной глубиной отличаются работы В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, Г.В. Флоровского, много и блистательно писал о русских философах Н.А. Бердяев.
Особенность русской философии в том, что она изначала формировалась в рамках религиозных воззрений, иначе, чем в Европе. Европейская литература родилась из теологической и философской традиции в процессе секуляризации христианской средневековой культуры. Вначале была схоластика и "Сумма теологии" Фомы Аквинского, затем "Божественная комедия" Данте, только потом Петрарка и Шекспир создавали светскую литературу. Русская художественная литература, напротив, предварила и зародила оригинальную русскую философию, придав ей художественную интуицию и религиозный пафос. "Русский мыслитель поднимается до истинных высот как мыслитель, созерцающий сердцем. Это многое объясняет и на многое проливает свет. Вот почему абстрактная теория познания - не русский национальный продукт... вот почему философия является для него видом религиозного поиска и очевидности" (И.А. Ильин) .
В XVII-XIX веках попытки философствования в духовных академиях, затем в университетах были неоригинальными и сводились к подражаниям европейской схоластике и рационализму: "В XVIII в. даже считалась наиболее соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. Оригинально, по православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх Церкви, а конногвардейский офицер в отставке и помещик Хомяков. Потому самые замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на подозрении" (Н.А. Бердяев) .
Взирая к более ранним источникам христианской философии обратимся к творчеству Льва Толстого. Лев Николаевич Толстой не был философом, богословом в полном смысле слова. Никто не может отрицать того исторического факта, что Л.Н. Толстой является крупнейшим авторитетом практически во всём спектре вопросов человеческой жизни. Однако в вопросах религии он таким авторитетом не является. Л.Н. Толстой совершенно правильно указал на факт подмены Благовестия (Евангелия) Царствия Божиего на Земле, каким было христианство в устах и делах Иисуса, на вероучение спасения верой в "самопожертвование, казнь и воскресение бога", которое было посеяно в души людей вместе с ветхонаветными пророчествами Исаии задолго до эпохи первого пришествия Христа и деятельности апостолов. Оно действительно распространилось при активнейшем участии Павла, на что указывает Л.Н. Толстой. Но при этом Савл-Павел не только орудие антихристианства, но и жертва обстоятельств, созданных мировой закулисой задолго до его рождения в пределах Божиего попущения ей. Однако поскольку сам Л.Н. Толстой не размежевался с ветхонаветной доктриной Второзакония-Исаии, то и в явление Христом возможностей Царствия Божиего на Земле как волшебно-сказочной цивилизации (по меркам господствующего ныне мировоззрения) он не верит и относит это к суеверным вставкам-вымыслам. Соответственно и давая оценку деятельности Павла, он многое извратил в ней, "подстригая Павла под свой горшок" по неприязненному своему предубеждению в отношении него, и не мог не знать этого. В этом отношении он не лучше Павла: история становления исторически реального христианства и его социологических доктрин была более многогранна, чем это представил Л.Н. Толстой в приведённой статье .
Человек, который большую часть жизни был проповедником евангельской этики, а последние 30 лет жизни посвятил проповеди христианского учения (как он его понимал), оказался в конфликте с христианской Церковью и, в конечном счете, был отлучен от нее. Человек, который проповедовал непротивление, был воинствующим борцом, который с ожесточением Степана Разина или Пугачева набросился на всю культуру, разнося ее в пух и прах. Человек, который стоит в культуре как феномен (его можно сравнить только с Гёте, если брать Западную Европу), универсальный гений, который за что бы ни брался - пьесы ли, публицистика ли, романы или повести - всюду эта мощь! И этот человек высмеивал искусство, зачеркивал его и, в конце концов, выступил против своего собрата Шекспира, считая, что Шекспир зря писал свои произведения. Лев Толстой - величайшее явление культуры - был и величайшим врагом культуры. И в "Войне и мире", увлеченный великой бессмертной картиной движения истории, Толстой выступает не как человек без веры. Он верит - в фатум. Он верит в какую-то - таинственную силу, которая неуклонно ведет людей туда, куда они не хотят. Деизм распространился с необычайной силой, и мы знаем, что выдающиеся люди XVIII и начала ХIХ в. примыкали к этим идеям; масонами были и Моцарт, и Лессинг, в России Новиков, Баженов и многие другие. И герои Толстого также. Не в Церкви он ищет, а в псевдоцеркви, которая вместо священных почти двухтысячелетних символов христианства проходит через систему этих придуманных интеллектуалами доморощенных символов и обрядов.
Конфликт Толстого с Церковью - это след или отпечаток какого-то глубинного конфликта, который вообще заложен был в русской культуре. И нам очень важно разобраться, о чем здесь идет речь. Толстой, безусловно, отражал не только свои собственные взгляды, но и общие настроения эпохи. Мы имеем огромное количество свидетельств тому, что люди его круга, люди той среды, к которой сам Толстой принадлежал, находились, как правило, в очень сложных отношениях с Церковью.
Антицерковные, антирелигиозные произведения Толстого в России широко не распространялись, по цензурным соображениям. Если мы в качестве отсчета возьмем 1881 год, который я называл, то все основные свои произведения, в том числе и роман "Воскресение", Толстой в довольно полном, бесцензурном виде опубликовал в Европе.
XIX век - период, когда этот секуляризационный механизм продолжал развиваться . Здесь тоже очень интересный момент: когда профессиональные историки всё это слушают, они говорят: "Не надо употреблять два слова, пожалуйста - "интеллигенция" и "секуляризация", это такие сложные понятия, тебе всё равно не удастся их определить, и мы будем долго спорить, что это такое". Ну, спорить не спорить, а это, на самом деле, очень емкие понятия и говорить о них надо.
Были две основные точки, в которых издавались произведения Толстого: это типография Черткова в Англии и еще одна типография в Швейцарии. Откуда могли быть известны в России эти произведения (например, "В чем моя вера?", "Критика догматического богословия" и так далее)? Либо соответствующие книжки могли переправляться в Россию через границу, что и происходило на самом деле (но понятно, что очень большое количество экземпляров всё-таки трудно было переправить), либо распространены были рукописные копии.
К середине XIX века русский философский ум прошел хорошую школу западного философствования. Из европейских философов наиболее благоприятное влияние оказал Шеллинг, что вовсе не очевидно после двух веков гегельянщины в разнообразных формах. Это симптоматично и важно для нашей темы. Шеллинг был очень одарен с молодости и уже с 18 лет сформулировал свою первую философскую систему в натурфилософии. Затем он за несколько лет создает системы трансцендентального (или эстетического) идеализма и философию тождества. Гегель был на пять лет старше Шеллинга, но под влиянием своего младшего коллеги увлекался сначала идеями трансцендентального (субъективного) идеализма, а затем на основе шеллингианской философии тождества развивал систему абсолютного (объективного) идеализма . Шеллинга же философские изыскания ведут дальше, и он к тридцати пяти годам создает философию свободы, затем до конца жизни развивает принципы положительной философии, или философии откровения. Если философия свободы приступала к формулированию религиозной проблематики в философии, то философия откровения - это первая в новоевропейской истории система религиозной философии, которую Шеллинг развивает в одиночестве, начиная с 1813 года и до конца жизни. Он развернул секуляризованную после Декарта западноевропейскую мысль к религиозным истокам философии. Но в этом он оказался малопонятым современниками. Если для Шеллинга все предшествующие периоды его философствования были подготовительными к вершине творчества - философии откровения, то последователи смогли воспринять только его ранние, а значит и более частные концепции. Гегель всю жизнь посвятил развитию идей философии тождества, через призму которых он описал всю философскую проблематику. Эта предельно рационалистическая система, выглядящая универсальной, а по сути сводящая универсум к нескольким частным принципам, и была воспринята современниками как высшая форма философствования. Гегель больше соответствовал заказу интеллектуальной атмосферы эпохи, в которой преобладала инерция просвещенческого рационализма. Когда в 1841 году Шеллинга пригласили читать лекции в Берлинский университет, в котором около пятнадцати лет до своей смерти преподавал Гегель, аудитория была уже гегельянской и не была способна воспринять религиозно-философский подход. Младогегельянцы и Ф. Энгельс подвергли философа осмеянию в памфлетах. Но лекции Шеллинга слушали и С. Кьеркегор, и А. Шопенгауэр, на которых он оказал сильное влияние. Их философия выходит за узкие рамки господствующего западноевропейского рационализма, но они также не были востребованы современниками.
Вместе с тем, на лекциях Шеллинга присутствовали многие русские люди. Если Гегелем в России увлекались радикалы М.А. Бакунин и В.Г. Белинский (который знал его по пересказам Бакунина), то П.Я. Чаадаев, В.Ф. Одоевский и другие "любомудры", а также славянофилы предпочли гегелевскому рационализму шеллингианскую религиозную философию. Мало воспринятая в Европе философия откровения Шеллинга воздействовала на духовную и интеллектуальную атмосферу в России. Эта традиция русского шеллингианства повлияла на формирование взглядов Владимира Соловьева, который создает цельную систему религиозной философии и этим сильнейшим образом определяет облик русской философии. В начале XX века русские религиозные философы на два десятилетия предварили основные направления философской мысли Европы - персонализм и экзистенциализм. Только в двадцатые годы европейские экзистенциалисты открывают для себя творчество Кьеркегора и Шопенгауэра и воспринимают влияние Шеллинга.
В своих проблемах и методах оригинальная русская философия обратилась к традиции святоотеческого богословия и философии: "У нас есть великая школа богословия, это наша обедня, открытая для всех" (Ф.М. Достоевский). Русская философия изначально следовала древней традиции патристики и русской средневековой мысли, сочетающей теоретический и практический интерес: подлинная философия есть поиск истинной жизни и спасения. "Когда в XIX в. в России народилась философская мысль, то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и социальной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории" (Н.А. Бердяев) . Русская философская мысль на новом уровне воспроизводила традиционные формы русского умозрения, которое веками развивалось в нерационалистических формах: в эстетической (средневековая иконопись - философия в красках), в художественной литературе. Это наложило отпечаток на философское мышление, которое изначально было цельным. "Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассеченности. Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм признавали первородным грехом западной мысли" (Н.А. Бердяев). Этот целостный дух у русских мыслителей не имеет отношения к абстрактному мировому духу Гегеля, а является живым конкретным субъектом бытия: "Употребляя современное выражение, можно было бы сказать, что русская философия, религиозно окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт" (Н.А. Бердяев).
Философский ум обратился к Православию впервые в творчестве славянофилов. Программу философии в России сформулировал Иван Васильевич Киреевский, и это была философия жизни: "Как необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности... Конечно, первый шаг к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия". В этой программе была осознана необходимость воссоединения мышления образованных сословий с национальным религиозным духом. Киреевский и Хомяков провозглашали конец отвлеченной философии и стремились к целостному мышлению, что свидетельствовало об ослаблении влияния Гегеля и усилении влияния Шеллинга позднего периода.
Алексей Степанович Хомяков утверждал, что философствование исходит из религиозного опыта и должно стать философией действия. Хомяков проницательно предвидит переход гегельянства в материализм, диалектического идеализма - в диалектический материализм. Творчески осмысляя опыт европейской философии, Хомяков на основе патристики закладывает основы новой русской философии, учения о свободе, о соборности, о Церкви. Понятие соборности является основополагающим в христианской философии А.С. Хомякова: соборность - это "свобода в единстве", свободное единение людей, основанное на христианской любви и направленное на совместные поиски пути спасения. Идеалом соборности является Собор Ипостасей Святой Троицы, а наиболее соборной реальностью - Православная Церковь, ведущая Россию к соборной цельности духа. Хомяков развивает оригинальные принципы теории познания, которые можно характеризовать православной гносеологией: любовь как принцип познания открывает религиозную истину, соборное общение в любви является критерием истины: "Знание истины дается лишь взаимной любовью "(А.С. Хомяков). В основе сознания - вера: знание и вера тождественны, волящий разум созерцает сущее до акта рационального сознания. Воля- свобода соединена с разумом в целостности духа. Хомяков развивал концепцию соборности, органично единящей свободу и любовь. Во вселенскости Церкви, объединяющей всех любовью, и в основе единства которой является любовь, явлена христианская соборность: "Христианство есть не иное что, как свобода во Христе... Единство Церкви есть не иное что, как согласие личных свобод... Свобода и единство - таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе" (А.С. Хомяков). Знаменательно, что русское Православие предоставляло большие возможности для религиозно-философского творчества: "Мысль Хомякова свидетельствует о том, что в Православии возможна большая свобода мысли (говорю о внутренней, а не о внешней свободе). Это объясняется отчасти тем, что православная Церковь не имеет обязательной системы и более решительно, чем католичество, отделяет догматы от богословия... В русской религиозно-философской и богословской мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на теологию откровенную и теологию натуральную, для этого русское мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры" (Н.А. Бердяев).
Гениальным философом-метафизиком был Федор Михайлович Достоевский. Его философия в образах впервые ставила многие проблемы бытия человека: неразрешимые противоречия личности, мировая гармония и разгул зла, оправдание добра в мире, преисполненном зла. Главный вопрос Достоевского мыслителя-художника: смысл и цель существования человека на Земле "Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить". Он сочетал персонализм - утверждение божественной ценности человеческой личности - с соборностью и всечеловечностью. Достоевский - реалист духа - впервые вскрыл глубины человеческой души, в которой дьявол с Богом борется. "Достоевский, великий провидец и мыслитель, выражает собой как бы душевную субстанцию русского народа. Его романы повергают в душевный хаос, в котором мощный голос обретают страсти, где они переплетаются, сталкиваются и разрушаются в таком напряжении и смятении, которое подчас едва переносимо, и с такой художественной силой, которую нельзя порой переживать без отвращения. Однако если бы кто-нибудь стал утверждать, что Достоевский идеализирует этот хаос и копается в потемках душевных, чтобы "возвеличить" нестроение и превратности души, тот впал бы в большую ошибку. Напротив, все, что пишет Достоевский, является прорывом к Богу, зовом к Господу, борьбой за преображение и за дух Христа. Для Достоевского значим только один девиз: "De profundis clamavi ad te, Domine!" ("Из глубины воззвав к Тебе, Господи!"), только один лозунг: "В глубочайшей бездне светит Бог!" И сам он, суггестивный мастер человеческой страсти, знал совершенно точно все, что касается формы, и именно добротной формы человека; он знал, как беспочвен, в какой глубокой бездне оказывается человек без Бога и почему только гармония открывает истинные глубины духа, приносит исцеление и просветление. Вот почему он понял и смог выразить суть национально-пророческой миссии Пушкина" (И.А. Ильин).
Писатель открывает глубинную психологию - подпольного человека, подсознательное: "Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него... Эта новая антропология учит о человеке, как о существе противоречивом трагическом, в высшей степени неблагополучном, не столько страдающем, но и любящем страдания. Достоевский более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа... Он изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения... Достоевский высказывает гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное существо, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, имеющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина возникновения сознания" (Н.А. Бердяев). Достоевский раскрывает глубокие психологические мотивы преступления и диалектику совести. Он - певец божественной свободы в человеке:
"Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие в человека. Отрицание свободы есть антихристов дух. Тайна Распятия есть тайна свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не насилует своим образом" (Н.А. Бердяев). Но Достоевский видит, как легко свобода переходит в безбожное своеволие и рабство.
В век начинающегося научно-технического прогресса и торжества идей о земном рае впервые заявлено об античеловечности гуманистической цивилизации: "Подпольный человек не согласен на мировую гармонию, на хрустальный дворец, для которого сам он был бы лишь средством... не принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личности свободы... Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы, он более всего возражает против принудительного счастья" (Н.А. Бердяев). Без религиозное самоутверждение ведет к утверждению человекобожества, к рабству человека и вырождается в бесчеловечность. Только в Богочеловеке и Богочеловечности человек способен утвердиться в подлинной духовной свободе. Если Бога нет, то все позволено, без веры в бессмертие не разрешим ни один вопрос. Ф.М. Достоевский вскрывает трагическую метафизику зла.
Лицезрев глубинные духовные реальности, писатель многое сумел предвидеть в истории: "В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профетическое художество его определялось тем, что он раскрывал вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души... В человеке есть четвертое измерение. Это открывается обращением к конечному, выходом из серединного существования, из общеобязательного, которое получает название "всеемства"" (Н.А. Бердяев).
Достоевского волновала проблема исторического предназначения русского народа. "Именно у Достоевского наиболее остро русское мессианское сознание... Ему принадлежат слова, что русский народ - народ-богоносец" (Н.А. Бердяев). Достоевский верил, что русскому народу предстоит великая богоносная миссия - сказать новое слово миру. В знаменитой речи о Пушкине он говорит, что русский человек - всечеловек, который обладает универсальной отзывчивостью. Вместе с тем, писатель предчувствует великие апокалиптические битвы в России: "Пророчества Достоевского о русской революции суть проникновение в глубину диалектики о человеке - человеке, выходящем за пределы средне-нормального сознания" (Н.А. Бердяев).
Трагическое миросозерцание Достоевского невиданно расширило горизонт христианского человечества, открыло новые измерения духовного бытия. Понимание самого христианства становится более сложными, вместе с тем, более соответствующим благовестию Спасителя:
"Достоевский проповедовал Иоанново христианство, - христианство преображенной земли, религии воскресения, прежде всего" (Н.А. Бердяев). Христианство - это религия спасения мира любовью. Старец Зосима в романе "Братья Карамазовы" говорит: "Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его... Любите все создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах... Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего". Это - жизнь по опаляющему измерению Нагорной проповеди.
Достоевский был неисповедимыми путями открыт в XX веке читателем западной культуры - ив Европе, ив Америке, и в Азии, в то время, когда в Советской России он был фактически под запретом. Оттуда - с Запада, опять же неисповедимо, Достоевский с шестидесятых годов возвращается в Россию.
У Достоевского - спор человеческого сегодня с временем Бога, которое, строго говоря, и не совсем вечность, но длящееся сегодня, вбирающее в себя все времена, прошедшее и будущее. Можно отметить две самые распространенные ошибки восприятия его философии за рубежом. Первой является культурологическая абстракция (в частности свойственная прочтению Достоевского в зеркале экзистенциализма Ницше): рассмотрение его произведений через ценностные ориентиры собственной культуры, не принимая и не понимая при этом как идей православного христианства, так и русской культуры в целом. Второй - абстракция смысловая: прочтение Достоевского представителями частных наук, как только лишь психолога, социолога, криминалиста. В результате можно говорить не о понимании Достоевского, а о достижении определенных результатов в интересующей области за счет обращения к опыту Достоевского. Проблема заключается в том, что попытки ответить на вопросы вышеуказанных наук для Достоевского - лишь средство художественного выражения своей антропологии, тогда как для обозначенного рода исследователей - прямая цель.
В связи с современными тенденциями принятия зарубежных ценностей остро возникает вопрос о том, чтобы принятие не сопровождалось несоизмеримыми потерями. Это становится очень актуальным в области культуры, нравственности, антропологии. Современный человек меняется, но эти изменения носят в своей основе позитивистские и прагматические тенденции. Именно поэтому обращение к творчеству Достоевского на настоящий момент необходимо как способ отыскания человека в человеке, как основание для сохранения высоких ценностей христианской культуры в современном обществе. Причем эта значимость актуальна не только в России, но и для Западной культуры, там, где произошел значительный упадок высоких культурных ценностей в пользу материальной прагматики.
Можно утверждать, что мощный толчок к этим секуляризационным процессам был дан в начале XVI века, скоро мы будем уже праздновать 500-летие этого события: это Реформация, которая началась в Германии в 1517 году, более конкретно, она началась с того, что профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые "95 тезисов". 1843 год, в Германии выходит, на первый взгляд, незаметная книга профессора и пастыря Давида Фридриха Штрауса, которая называется "Жизнь Иисуса". Это была, по всей видимости, первая биография, в которой Иисус Христос был показан не как богочеловек, а как просто человек, великий пророк, который на Земле проповедовал высокое и очень нравственное учение. И после выхода этой книги, которая очень быстро переводится на все европейские языки, эта концепция, этот новый взгляд на Христа и на христианство начинает развиваться с ошеломляющей скоростью. Идейная база секуляризации готовилась в немецких университетах.
Она готовилась в лекциях и книгах Штрауса, Гегеля, Фейербаха и многих других авторов, и затем она стала распространяться по другим каналам. Надо сказать, что наиболее емко эта проблема взаимоотношений человека и Церкви была сформулирована Достоевским несколько позже - в 1860-1870-е годы, когда он поставил риторический вопрос: может ли современный образованный человек верить в то, во что призывает верить православие? Этот вопрос и для Толстого, и для Достоевского (а Достоевский и Толстой относились к одному поколению) и для всего их поколения был невероятно актуален.
Толстой - это еретик, которого надо было отлучить от Церкви, а Достоевский - это православный, который в своих романах изложил христианское вероучение. Надо сказать, что некоторые современные исследователи примерно так и говорят. Достоевский пережил те же самые сомнения и искания, конечно, в другой форме, но приблизительно те же самые, которые пережил и Толстой. И Достоевский стоял перед теми же самыми вопросами, которые задавал себе Толстой. Интересно, что форма этих вопросов была немножко разная. Достоевский спрашивает: можно ли верить образованному человеку в то, во что призывает верить православие? А Толстой эту же мысль формулирует в отрицательной форме, уже не как вопрос, а как утверждение: невозможно верить образованному человеку в то, во что призывает верить не только православие, но и христианство. И с этой точки зрения, конечно, между Толстым и Достоевским есть и точки соприкосновения, и точки отталкивания.
Отметим, что первым русским профессиональным философом европейского масштаба был Владимир Сергеевич Соловьев, который стремился создать систему христианской философии. Соловьев был европейски образованным человеком, из европейских философов наиболее близок ему Шеллинг. Вл.С. Соловьев начинает самостоятельное философствование с отвержения европейского рационализма, чему посвящены его диссертации: магистерская "Кризис западной философии "и докторская "Критика отвлеченных начал". Ему удалось преодолеть доминирование позитивизма в тогдашнем русском мышлении привить метафизическую проблематику и углубленность. В его творчестве - мощный одновременно аналитический и синтетический ум, индивидуальная мистическая интуиция (явление Софии Небесной в Египте) и христианское богословствование. Он писал и большие философские трактаты, и грациозные мистически наполненные стихи. Это расплавление разграничивающих перегородок европейском интеллекте будет благотворным для последующей русской мысли, которая характерно синтетична. Впечатляет и широчайший охват философских и богословских проблем, которые разрабатывал Соловьев, и этот универсализм мышления тоже унаследован дальнейшей русской философией. Вместе с тем, в творчестве философа сказывались рецидивы отвлеченной рационалистичности, продуктом чего была и концепция всеединства, которую многие высоко ценили и которую пытались развить С.Н. и Е.Н. Трубецкие, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, В.Ф. Эрн, Н.О. Лосский, А.Ф. Лосев. Может быть, для самих философов идея положительного всеединства всего и играла роль методологического приема, позволяющего зафиксировать и упорядочить какие-то творческие смыслы, но все подлинные достижения наших философов лежат вне этой маложизненной отвлеченности. Более того, развитие идей всеединства Львом Карсавиным увело его к порочной концепции идеократии. Основополагающая интуиция Соловьева о всеединстве ограничивала его философский горизонт:
"Он не переживал с остротой проблему свободы, личности конфликта, но с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии. Его тройственная теософическая, теократическая и теургическая утопия есть все то же русское искание Царства Божьего, совершенной жизни" (Н.А. Бердяев). Стремление навязывать схему всеединства привело Соловьева к отвлеченным концепциям: о Вселенской Церкви, неорганично и вне исторично объединяющей христианские конфессии (впоследствии Соловьев отказался от этих представлений); об утопическом мироустройстве на основе "социальной троицы" (отражающей Божественную Троицу), в которой единство Церкви, государства и общества выражается в духовном авторитете вселенского первосвященника (которым должен стать Папа Римский), в светской власти национального государя, а также в свободном служении пророка; или историософской концепции о третьей силе - России, которая избегает монистических крайностей мусульманского Востока индивидуалистических крайностей Запада.
Владимир Соловьев творчески был фигурой противоречивой: "Он был философом эротическим, в платоновском смысле слова, эротика высшего порядка играла огромную роль в его жизни, была его экзистенциальной темой. И, вместе с тем, в нем был сильный моралистический элемент, он требовал осуществления христианской морали в полноте жизни... Вл. Соловьев соединяет мистическую эротику с аскетизмом" (Н.А. Бердяев). Большую роль сыграл фундаментальный труд "Оправдание добра. Нравственная философия", который, наряду с излишней рационализированностью, преисполнен глубокого анализа этических проблем, точнейших характеристики определений, множества остроумных выводов. Добро является высшей сущностью бытия, находящей воплощение в различных аспектах человеческого существования; добродетели и доброделание обусловлены не субъективным произволом, а исполнением высшего повеления совести - искры Божией в человеке. Нравственная проблематика изначально была центральной для русской философии, продолжил эту традицию и Вл. Соловьев. В этой книге, наряду с "Чтениями о Богочеловечестве", систематически развивается одна из основных идей соловьевской философии - о Богочеловечестве, получившая большое значение в русской философии. В личности Богочеловека соединилась Божественная и человеческая природы, и в истории должны воссоединиться Бог и человек - Богочеловечество.
"Понимание христианства как религии Богочеловечества радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории и скупления, распространенной в богословии католическом и протестантском. Явление Богочеловека и грядущее явление Богочеловечества означают продолжение миротворения. Русская религиозно-философская мысль в своих лучших представителях решительно борется против всякого юридического истолкования тайны христианства... Вместе с тем, идея Богочеловечества обращается к космическому преображению, это почти совершенно чуждо официальному католичеству и протестантизму... Огромное значение в соловьевском деле имеет его утверждение профетической стороны христианства" (Н.А. Бердяев).
У Соловьева "за универсализмом, за устремленностью к всеединству скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюблённость в красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии" (Н.А. Бердяев). Представления о Софии связаны с платоновским миром идей: "София есть выраженная, осуществленная идея... София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом Божественного единства" (Вл. С. Соловьев). София является связью между Творцом творением, являет Божественную премудрость в мире, в космосе и человечестве, есть идеальное человечество. Видения Софии открывают красоту Божественного космоса и преображенного мира. Интуиция Софии - Вечной женственности и Премудрости Божией - соответствовала архетипическим представлениям русского православного миросозерцания: "Посвящая древнейшие свои храмы святой Софии, субстанциальной Премудрости Бога, русский народ дал этой идее новое воплощение, неизвестное грекам (которые отождествляли Софию с Логосом)... наряду с Богоматерью и Сыном Божиим - русский народ знал и любил под именем святой Софии социальное воплощение Божества и Церкви Вселенской" (Вл. С. Соловьев). Софиологическая тема, которая проходит через все творчество Соловьева, оказалась очень плодотворной для традиции русской философии и поэзии.
Только в последнем произведении "Три разговора "философия Владимира Соловьева приближается к органичной, лишенной рационального схематизма форме выражения. Форма работы - диалоги - обращает русскую философскую мысль к художественно-диалектическому методу Платона, и, вместе с тем, предваряет экзистенциальную философию XX века.
"Он, как будто бы, приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное философствование не принадлежит к экзистенциальному типу... самая его философия остается отвлеченной и рациональной, сущее в ней задавлено схемами... Как философ Вл. Соловьев совсем не был экзистенциалистом, он не выражал своего внутреннего существа, а прикрывал" (Н.А. Бердяев). Соловьевв "Трех разговорах" отказывается от своей теократической утопии и профетически описывает трагизм человеческой истории, ее эсхатологические перспективы. Он рисует антихриста как человеколюбца, реализующего идеалы социальной справедливости и тем самым духовно порабощающего человека. Противостоять царству антихриста может только соединение Церквей в лице католического папы Петра, православного старца Иоанна протестантского доктора Паулуса, при этом Православие оказывается носителем наиболее мистически глубокой традиции христианства. Мысль Соловьева парила в высотах, с которых некоторые исторические проблемы ему виделись достаточно утопично. Он прошел мимо основной заботы русской мысли XIX века - о росте идейной маниакальности в атмосфере эпохи. В итоге можно согласиться с Н.О. Лосским, что "В философии Соловьева много недостатков.
Часть этих недостатков перешла по наследству к его последователям. Однако именно Соловьев явился создателем оригинальной русской системы философии заложил основы целой школы русской религиозной философской мысли, которая до сих пор продолжает жить и развиваться".
Вл. С. Соловьев был плохо понят современниками и вновь открыт уже вначале XX века поколением, которое переживало соблазны нигилизма, позитивизма, марксизма. "Лишь вначале XX в. образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало то, что был Вл. Соловье вдневной и был Вл. Соловьев ночной, внешне открывавший себя, и в самом раскрытии себя скрывавший, ив самом главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он раскрывал то, что было скрыто, было прикрыто и задавлено рациональными схемами его философии... Он был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все, его знавшие, у него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя" (Н.А. Бердяев). Своей мистической поэзией Соловье способствовал рождению символизма русской поэзии начала века: "Вл. Соловьев был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего" (Н.А. Бердяев). Владимир Соловьев привил русской мысли философский профессионализм, впервые поставил многие религиозно-философские проблемы, и в этом смысле его можно считать предтечей русской философии XX века.
Во второй половине XIX века в России появился ряд талантливых религиозных философов. Н.Я. Данилевский в работе "Россия и Европа" изложил концепцию культурно-исторических типов и предвосхитил многие идеи XX века, в частности О. Шпенглераи А. Тойнби. Человечество - это разрушительная абстракция, каждый культурно-исторический тип выражает определенную идею, а вместе они составляют все человечество. Господство одного из культурно-исторических типов ведёт к деградации цивилизации. Данилевский отмечает враждебный и агрессивный характер романо-германского культурно-исторического типа по отношению к формирующемуся славянскому типу. В других работах Данилевский критикует теорию естественного отбора Дарвина с позиций естественного богословия.
Оригинальным философом был Н.Ф. Федоров, автор "Философии общего дела", создавший концепцию всеобщего воскресения из мертвых, предлагавший толковать пророчества Апокалипсиса как условные. Напротив, философ-эстет и апокалиптик К.Н. Леонтьевне верил во всеобщее спасение, не был устремлен к преображению человечества и мира, утверждал неизбежность апокалипсиса. Он считал, что неравенство способствует возрастанию бытия, равенство же ведет к деградации жизни и к небытию; все цивилизации, культуры, общества после расцвета обречены на неизбежное дряхление. С этих позиций монах-философ подвергает острой критике концепцию прогресса, который является примером деградации, "Антихрист идет", - говорил он о состоянии современного мира. Леонтьев предвидел страшную катастрофу России, и, вместе с тем, верил в ее воскресение, но только на византийских началах.
Из церковной среды А.М. Бухарев (архимандрит Федор), развивал христологию: Сын Божий стал человеком ради всякого человека, Агнец был заклан до сотворения мира, и Боготворил мир собственным распятием.
"Мир явился мне не только областью, во зле лежащей, но и великою средой для раскрытия Благодати Богочеловека, взявшего зло мира на себя" (А.М. Бухарев). Христианскую антропологию развивал профессор Казанской духовной академии В.И. Несмелов, предвосхитивший принципы экзистенциальной философии и этим повлиявший на Бердяева.
Концепции профессора Московской Духовной академии М.М. Тареева предвосхитили ряд идей философии жизни, экзистенциализма и диалектической теологии неопротестантизма XX века. Очень разных русских философов объединяли общие интуиции бытия и близкие философские подходы, которые с самого начала отличали их от европейских коллег: "Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося Боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христамиротворения. Это - отличие русской религиозной мысли от западной... Русская религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем католическая и протестантская антропология, и она идет дальше антропологии патристической и схоластической, в ней сильнее человечность... Русская мысль - существенно эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы" (Н.А. Бердяев).
Таким образом, при формировании русской философии XIX века определились основные ее интенции. Прежде всего, русский ум отказывается от интеллектуального европоцентризма и обращается к религиозным истокам культуры, русская философия становится по преимуществу религиозной. Философский гений вслед за писательским обращается к Православию, ищет источники вдохновения в русской культуре, в отечественной проблематике. И в отталкивании от гипертрофированного западного рационализма, ив темах, и в методологии русская философия развивается в русле платоновской традиции, испокон веков передающейся через православный эллинизм, патристику и русское Средневековье: от платоновского образного мышления - к экзистенциальному, от платоновского идеализма, созерцания мира вечных идей, - к богосозерцанию и созерцанию драмы творения Божьего. С самого начала русский философский ум охватывает широкий круг проблем. В постановке бытийных вопросов и в методологии русская философия во многом предварила развитие европейской философии новейшего времени. Философия России XIX века обогатила русскую культуру, усложнила национальное сознание. Русская философия изначально является мета-экзистенциальной: ориентирована на духовные основы бытия, отвечает на вопрошания национального духа, соответствует национальному характеру и умозрению. Все это во многом предопределило характер русской философии века XX.
В XIX веке зародилось оригинальное русское философствование, которое было проявлением духовной революции. По истории русской философии сейчас существует обширная литература, среди которой особенной глубиной отличаются работы В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, Г.В. Флоровского, много и блистательно писал о русских философах Н.А. Бердяев.
Русская философия изначально была религиозной и формировалась иначе, чем в Европе. Европейская литература родилась из теологической и философской традиции в процессе секуляризации христианской средневековой культуры. Вначале была схоластика и «Сумма теологии» Фомы Аквинского, затем «Божественная комедия» Данте, только потом Петрарка и Шекспир создавали светскую литературу. Русская художественная литература, напротив, предварила и зародила оригинальную русскую философию, придав ей художественную интуицию и религиозный пафос. «Русский мыслитель поднимается до истинных высот как мыслитель, созерцающий сердцем. Это многое объясняет и на многое проливает свет. Вот почему абстрактная теория познания – не русский национальный продукт... вот почему философия является для него видом религиозного поиска и очевидности» (И.А. Ильин).
Вместе с тем, за предшествующие века русский ум прошел путь философической пропедевтики. В XVII-XIX веках попытки философствования в духовных академиях, затем в университетах были неоригинальными и сводились к подражаниям европейской схоластике и рационализму: «В XVIII в. даже считалась наиболее соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. Оригинально, по православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх Церкви, а конногвардейский офицер в отставке и помещик Хомяков. Потому самые замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а писателями, людьми вольными. В России образовалась религиозно-философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на подозрении» (Н.А. Бердяев).

К середине XIX века русский философский ум прошел хорошую школу западного философствования. Из европейских философов наиболее благоприятное влияние оказал Шеллинг, что вовсе не очевидно после двух веков гегельянщины в разнообразных формах. Это симптоматично и важно для нашей темы. Шеллинг был очень одарен с молодости и уже с 18 лет сформулировал свою первую философскую систему в натурфилософии. Затем он за несколько лет создает системы трансцендентального (или эстетического) идеализма и философию тождества. Гегель был на пять лет старше Шеллинга, но под влиянием своего младшего коллеги увлекался сначала идеями трансцендентального (субъективного) идеализма, а затем на основе шеллингианской философии тождества развивал систему абсолютного (объективного) идеализма. Шеллинга же философские изыскания ведут дальше, и он к тридцати пяти годам создает философию свободы, затем до конца жизни развивает принципы положительной философии, или философии откровения. Если философия свободы приступала к формулированию религиозной проблематики в философии, то философия откровения – это первая в новоевропейской истории система религиозной философии, которую Шеллинг развивает в одиночестве начиная с 1813 года и до конца жизни. Он развернул секуляризованную после Декарта западноевропейскую мысль к религиозным истокам философии. Но в этом он оказался малопонятым современниками. Если для Шеллинга все предшествующие периоды его философствования были подготовительными к вершине творчества – философии откровения, то последователи смогли воспринять только его ранние, а значит и более частные концепции. Гегель всю жизнь посвятил развитию идей философии тождества, через призму которых он описал всю философскую проблематику. Эта предельно рационалистическая система, выглядящая универсальной, а по сути сводящая универсум к нескольким частным принципам, и была воспринята современниками как высшая форма философствования. Гегель больше соответствовал заказу интеллектуальной атмосферы эпохи, в которой преобладала инерция просвещенческого рационализма. Когда в 1841 году Шеллинга пригласили читать лекции в Берлинский университет, в котором около пятнадцати лет до своей смерти преподавал Гегель, аудитория была уже гегельянской и не была способна воспринять религиозно-философский подход. Младогегельянцы и Ф. Энгельс подвергли философа осмеянию в памфлетах. Но лекции Шеллинга слушали и С. Кьеркегор, и А. Шопенгауэр, на которых он оказал сильное влияние. Их философия выходит за узкие рамки господствующего западноевропейского рационализма, но они также не были востребованы современниками.
Вместе с тем, на лекциях Шеллинга присутствовали многие русские люди. Если Гегелем в России увлекались радикалы М.А. Бакунин и В.Г. Белинский (который знал его по пересказам Бакунина), то П.Я. Чаадаев, В.Ф. Одоевский и другие «любомудры», а также славянофилы предпочли гегелевскому рационализму шеллингианскую религиозную философию. Мало воспринятая в Европе философия откровения Шеллинга воздействовала на духовную и интеллектуальную атмосферу в России. Эта традиция русского шеллингианства повлияла на формирование взглядов Владимира Соловьева, который создает цельную систему религиозной философии и этим сильнейшим образом определяет облик русской философии. В начале XX века русские религиозные философы на два десятилетия предварили основные направления философской мысли Европы – персонализм и экзистенциализм. Только в двадцатые годы европейские экзистенциалисты открывают для себя творчество Кьеркегора и Шопенгауэра и воспринимают влияние Шеллинга.

В своих проблемах и методах оригинальная русская философия обратилась к традиции святоотеческого богословия и философии: «У нас есть великая школа богословия, это наша обедня, открытая для всех» (Ф.М. Достоевский). Русская философия изначально следовала древней традиции патристики и русской средневековой мысли, сочетающей теоретический и практический интерес: подлинная философия есть поиск истинной жизни и спасения. «Когда в XIX в. в России народилась философская мысль, то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и социальной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории» (Н.А. Бердяев). Русская философская мысль на новом уровне воспроизводила традиционные формы русского умозрения, которое веками развивалось в нерационалистических формах: в эстетической (средневековая иконопись – философия в красках), в художественной литературе. Это наложило отпечаток на философское мышление, которое изначально было цельным. «Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической рассеченности. Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм признавали первородным грехом западной мысли» (Н.А. Бердяев). Этот целостный дух у русских мыслителей не имеет отношения к абстрактному мировому духу Гегеля, а является живым конкретным субъектом бытия: «Употребляя современное выражение, можно было бы сказать, что русская философия, религиозно окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт» (Н.А. Бердяев).

Философский ум обратился к Православию впервые в творчестве славянофилов. Программу философии в России сформулировал Иван Васильевич Киреевский, и это была философия жизни: «Как необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности... Конечно, первый шаг к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия». В этой программе была осознана необходимость воссоединения мышления образованных сословий с национальным религиозным духом. Киреевский и Хомяков провозглашали конец отвлеченной философии и стремились к целостному мышлению, что свидетельствовало об ослаблении влияния Гегеля и усилении влияния Шеллинга позднего периода.

Алексей Степанович Хомяков утверждал, что философствование исходит из религиозного опыта и должно стать философией действия. Хомяков проницательно предвидит переход гегельянства в материализм, диалектического идеализма – в диалектический материализм. Творчески осмысляя опыт европейской философии, Хомяков на основе патристики закладывает основы новой русской философии, учения о свободе, о соборности, о Церкви. Понятие соборности является основополагающим в христианской философии А.С. Хомякова: соборность – это «свобода в единстве», свободное единение людей, основанное на христианской любви и направленное на совместные поиски пути спасения. Идеалом соборности является Собор Ипостасей Святой Троицы, а наиболее соборной реальностью – Православная Церковь, ведущая Россию к соборной цельности духа. Хомяков развивает оригинальные принципы теории познания, которые можно характеризовать православной гносеологией: любовь как принцип познания открывает религиозную истину, соборное общение в любви является критерием истины: «Знание истины дается лишь взаимной любовью» (А.С. Хомяков). В основе сознания – вера: знание и вера тождественны, волящий разум созерцает сущее до акта рационального сознания. Воля-свобода соединена с разумом в целостности духа. Хомяков развивал концепцию соборности, органично единящей свободу и любовь. Во вселенскости Церкви, объединяющей всех любовью, и в основе единства которой является любовь, явлена христианская соборность: «Христианство есть не иное что, как свобода во Христе... Единство Церкви есть не иное что, как согласие личных свобод... Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе» (А.С. Хомяков). Знаменательно, что русское Православие предоставляло большие возможности для религиозно-философского творчества: «Мысль Хомякова свидетельствует о том, что в Православии возможна большая свобода мысли (говорю о внутренней, а не о внешней свободе). Это объясняется отчасти тем, что православная Церковь не имеет обязательной системы и более решительно, чем католичество, отделяет догматы от богословия... В русской религиозно-философской и богословской мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на теологию откровенную и теологию натуральную, для этого русское мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры» (Н.А. Бердяев).

Гениальным философом-метафизиком был Федор Михайлович Достоевский. Его философия в образах впервые ставила многие проблемы бытия человека: неразрешимые противоречия личности, мировая гармония и разгул зла, оправдание добра в мире, преисполненном зла. Главный вопрос Достоевского мыслителя-художника: смысл и цель существования человека на Земле «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить». Он сочетал персонализм – утверждение божественной ценности человеческой личности – с соборностью и всечеловечностью. Достоевский – реалист духа – впервые вскрыл глубины человеческой души, в которой дьявол с Богом борется. «Достоевский, великий провидец и мыслитель, выражает собой как бы душевную субстанцию русского народа. Его романы повергают в душевный хаос, в котором мощный голос обретают страсти, где они переплетаются, сталкиваются и разрушаются в таком напряжении и смятении, которое подчас едва переносимо, и с такой художественной силой, которую нельзя порой переживать без отвращения. Однако если бы кто-нибудь стал утверждать, что Достоевский идеализирует этот хаос и копается в потемках душевных, чтобы «возвеличить» нестроение и превратности души, тот впал бы в большую ошибку. Напротив, все, что пишет Достоевский, является прорывом к Богу, зовом к Господу, борьбой за преображение и за дух Христа. Для Достоевского значим только один девиз: «De profundis clamavi ad te, Domine!» («Из глубины воззвах к Тебе, Господи!»), только один лозунг: «В глубочайшей бездне светит Бог!» И сам он, суггестивный мастер человеческой страсти, знал совершенно точно все, что касается формы, и именно добротной формы человека; он знал, как беспочвен, в какой глубокой бездне оказывается человек без Бога и почему только гармония открывает истинные глубины духа, приносит исцеление и просветление. Вот почему он понял и смог выразить суть национально-пророческой миссии Пушкина» (И.А. Ильин).
Писатель открывает глубинную психологию – подпольного человека, подсознательное: «Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него... Эта новая антропология учит о человеке, как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени неблагополучном, не столько страдающем, но и любящем страдания. Достоевский более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа... Он изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения... Достоевский высказывает гениальные мысли о том, что человек совсем не есть благоразумное существо, стремящееся к счастью, что он есть существо иррациональное, имеющее потребность в страдании, что страдание есть единственная причина возникновения сознания» (Н.А. Бердяев). Достоевский раскрывает глубокие психологические мотивы преступления и диалектику совести. Он – певец божественной свободы в человеке: «Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие в человека. Отрицание свободы есть антихристов дух. Тайна Распятия есть тайна свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не насилует своим образом» (Н.А. Бердяев). Но Достоевский видит, как легко свобода переходит в безбожное своеволие и рабство.
В век начинающегося научно-технического прогресса и торжества идей о земном рае впервые заявлено об античеловечности гуманистической цивилизации: «Подпольный человек не согласен на мировую гармонию, на хрустальный дворец, для которого сам он был бы лишь средством... не принимает результатов прогресса, принудительной мировой гармонии, счастливого муравейника, когда миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы... Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы, он более всего возражает против принудительного счастья» (Н.А. Бердяев). Безрелигиозное самоутверждение ведет к утверждению человекобожества, к рабству человека и вырождается в бесчеловечность. Только в Богочеловеке и Богочеловечности человек способен утвердиться в подлинной духовной свободе. Если Бога нет, то все позволено, без веры в бессмертие не разрешим ни один вопрос. Ф.М. Достоевский вскрывает трагическую метафизику зла.
Лицезрев глубинные духовные реальности, писатель многое сумел предвидеть в истории: «В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профетическое художество его определялось тем, что он раскрывал вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души... В человеке есть четвертое измерение. Это открывается обращением к конечному, выходом из серединного существования, из общеобязательного, которое получает название «всеемства»» (Н.А. Бердяев).
Достоевского волновала проблема исторического предназначения русского народа. «Именно у Достоевского наиболее остро русское мессианское сознание... Ему принадлежат слова, что русский народ – народ-богоносец» (Н.А. Бердяев). Достоевский верил, что русскому народу предстоит великая богоносная миссия – сказать новое слово миру. В знаменитой речи о Пушкине он говорит, что русский человек – всечеловек, который обладает универсальной отзывчивостью. Вместе с тем, писатель предчувствует великие апокалиптические битвы в России: «Пророчества Достоевского о русской революции суть проникновение в глубину диалектики о человеке – человеке, выходящем за пределы средне-нормального сознания» (Н.А. Бердяев).
Трагическое миросозерцание Достоевского невиданно расширило горизонт христианского человечества, открыло новые измерения духовного бытия. Понимание самого христианства становится более сложным и, вместе с тем, более соответствующим благовестию Спасителя: «Достоевский проповедовал Иоанново христианство, – христианство преображенной земли, религии воскресения, прежде всего» (Н.А. Бердяев). Христианство – это религия спасения мира любовью. Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» говорит: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его... Любите все создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах... Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби, ищи восторга и исступления сего». Это – жизнь по опаляющему измерению Нагорной проповеди .
Достоевский был неисповедимыми путями открыт в XX веке читателем западной культуры – и в Европе, и в Америке, и в Азии, в то время, когда в Советской России он был фактически под запретом. Оттуда – с Запада, опять же неисповедимо, Достоевский с шестидесятых годов возвращается в Россию.

Первым русским профессиональным философом европейского масштаба был Владимир Сергеевич Соловьев, который стремился создать систему христианской философии. Соловьев был европейски образованным человеком, из европейских философов наиболее близок ему Шеллинг. Вл.С. Соловьев начинает самостоятельное философствование с отвержения европейского рационализма, чему посвящены его диссертации: магистерская «Кризис западной философии» и докторская «Критика отвлеченных начал». Ему удалось преодолеть доминирование позитивизма в тогдашнем русском мышлении и привить метафизическую проблематику и углубленность. В его творчестве – мощный одновременно аналитический и синтетический ум, индивидуальная мистическая интуиция (явление Софии Небесной в Египте) и христианское богословствование. Он писал и большие философские трактаты, и грациозные мистически наполненные стихи. Это расплавление разграничивающих перегородок в европейском интеллекте будет благотворным для последующей русской мысли, которая характерно синтетична. Впечатляет и широчайший охват философских и богословских проблем, которые разрабатывал Соловьев, и этот универсализм мышления тоже унаследован дальнейшей русской философией. Вместе с тем, в творчестве философа сказывались рецидивы отвлеченной рационалистичности, продуктом чего была и концепция всеединства, которую многие высоко ценили и которую пытались развить С.Н. и Е.Н. Трубецкие, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, В.Ф. Эрн, Н.О. Лосский, А.Ф. Лосев. Может быть, для самих философов идея положительного всеединства всего и играла роль методологического приема, позволяющего зафиксировать и упорядочить какие-то творческие смыслы, но все подлинные достижения наших философов лежат вне этой маложизненной отвлеченности. Более того, развитие идей всеединства Львом Карсавиным увело его к порочной концепции идеократии. Основополагающая интуиция Соловьева о всеединстве ограничивала его философский горизонт: «Он не переживал с остротой проблему свободы, личности и конфликта, но с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии. Его тройственная теософическая, теократическая и теургическая утопия есть все то же русское искание Царства Божьего, совершенной жизни» (Н.А. Бердяев). Стремление навязывать схему всеединства привело Соловьева к отвлеченным концепциям: о Вселенской Церкви, неорганично и внеисторично объединяющей христианские конфессии (впоследствии Соловьев отказался от этих представлений); об утопическом мироустройстве на основе «социальной троицы» (отражающей Божественную Троицу), в которой единство Церкви, государства и общества выражается в духовном авторитете вселенского первосвященника (которым должен стать Папа Римский), в светской власти национального государя, а также в свободном служении пророка; или историософской концепции о третьей силе – России, которая избегает монистических крайностей мусульманского Востока и индивидуалистических крайностей Запада.
Владимир Соловьев творчески был фигурой противоречивой: «Он был философом эротическим, в платоновском смысле слова, эротика высшего порядка играла огромную роль в его жизни, была его экзистенциальной темой. И, вместе с тем, в нем был сильный моралистический элемент, он требовал осуществления христианской морали в полноте жизни... Вл. Соловьев соединяет мистическую эротику с аскетизмом» (Н.А. Бердяев). Большую роль сыграл фундаментальный труд «Оправдание добра. Нравственная философия», который, наряду с излишней рационализированностью, преисполнен глубокого анализа этических проблем, точнейших характеристик и определений, множества остроумных выводов. Добро является высшей сущностью бытия, находящей воплощение в различных аспектах человеческого существования; добродетели и доброделание обусловлены не субъективным произволом, а исполнением высшего повеления совести – искры Божией в человеке. Нравственная проблематика изначально была центральной для русской философии, продолжил эту традицию и Вл. Соловьев. В этой книге, наряду с «Чтениями о Богочеловечестве», систематически развивается одна из основных идей соловьевской философии – о Богочеловечестве, получившая большое значение в русской философии. В личности Богочеловека соединилась Божественная и человеческая природы, и в истории должны воссоединиться Бог и человек – Богочеловечество. «Понимание христианства как религии Богочеловечества радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории искупления, распространенной в богословии католическом и протестантском. Явление Богочеловека и грядущее явление Богочеловечества означают продолжение миротворения. Русская религиозно-философская мысль в своих лучших представителях решительно борется против всякого юридического истолкования тайны христианства... Вместе с тем, идея Богочеловечества обращается к космическому преображению, это почти совершенно чуждо официальному католичеству и протестантизму... Огромное значение в соловьевском деле имеет его утверждение профетической стороны христианства» (Н.А. Бердяев).
У Соловьева «за универсализмом, за устремленностью к всеединству скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюбленность в красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии» (Н.А. Бердяев). Представления о Софии связаны с платоновским миром идей: «София есть выраженная, осуществленная идея... София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом Божественного единства» (Вл.С. Соловьев). София является связью между Творцом и творением, являет Божественную премудрость в тварном мире, в космосе и человечестве, есть идеальное человечество. Видения Софии открывают красоту Божественного космоса и преображенного мира. Интуиция Софии – Вечной женственности и Премудрости Божией – соответствовала архетипическим представлениям русского православного миросозерцания: «Посвящая древнейшие свои храмы святой Софии, субстанциальной Премудрости Бога, русский народ дал этой идее новое воплощение, неизвестное грекам (которые отождествляли Софию с Логосом)... наряду с Богоматерью и Сыном Божиим – русский народ знал и любил под именем святой Софии социальное воплощение Божества и Церкви Вселенской» (Вл.С. Соловьев). Софиологическая тема, которая проходит через все творчество Соловьева, оказалась очень плодотворной для традиции русской философии и поэзии.
Только в последнем произведении «Три разговора» философия Владимира Соловьева приближается к органичной, лишенной рационального схематизма форме выражения. Форма работы – диалоги – обращает русскую философскую мысль к художественно-диалектическому методу Платона, и, вместе с тем, предваряет экзистенциальную философию XX века. «Он, как будто бы, приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное философствование не принадлежит к экзистенциальному типу... самая его философия остается отвлеченной и рациональной, сущее в ней задавлено схемами... Как философ Вл.Соловьев совсем не был экзистенциалистом, он не выражал своего внутреннего существа, а прикрывал» (Н.А. Бердяев). Соловьев в «Трех разговорах» отказывается от своей теократической утопии и профетически описывает трагизм человеческой истории, ее эсхатологические перспективы. Он рисует антихриста как человеколюбца, реализующего идеалы социальной справедливости и тем самым духовно порабощающего человека. Противостоять царству антихриста может только соединение Церквей в лице католического папы Петра, православного старца Иоанна и протестантского доктора Паулуса, при этом Православие оказывается носителем наиболее мистически глубокой традиции христианства. Мысль Соловьева парила в высотах, с которых некоторые исторические проблемы ему виделись достаточно утопично. Он прошел мимо основной заботы русской мысли XIX века – о росте идейной маниакальности в атмосфере эпохи. В итоге можно согласиться с Н.О. Лосским, что «В философии Соловьева много недостатков. Часть этих недостатков перешла по наследству к его последователям. Однако именно Соловьев явился создателем оригинальной русской системы философии и заложил основы целой школы русской религиозной философской мысли, которая до сих пор продолжает жить и развиваться».
Вл.С. Соловьев был плохо понят современниками и вновь открыт уже в начале XX века поколением, которое переживало соблазны нигилизма, позитивизма, марксизма. «Лишь в начале XX в. образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало то, что был Вл.Соловьев дневной и был Вл.Соловьев ночной, внешне открывавший себя, и в самом раскрытии себя скрывавший, и в самом главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он раскрывал то, что было скрыто, было прикрыто и задавлено рациональными схемами его философии... Он был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все, его знавшие, у него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя» (Н.А. Бердяев). Своей мистической поэзией Соловьев способствовал рождению символизма в русской поэзии начала века: «Вл. Соловьев был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего» (Н.А. Бердяев). Владимир Соловьев привил русской мысли философский профессионализм, впервые поставил многие религиозно-философские проблемы, и в этом смысле его можно считать предтечей русской философии XX века.

Во второй половине XIX века в России появился ряд талантливых религиозных философов. Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» изложил концепцию культурно-исторических типов и предвосхитил многие идеи XX века, в частности О. Шпенглера и А.Тойнби. Человечество – это разрушительная абстракция, каждый культурно-исторический тип выражает определенную идею, а вместе они составляют всечеловечество. Господство одного из культурно-исторических типов ведет к деградации цивилизации. Данилевский отмечает враждебный и агрессивный характер романо-германского культурно-исторического типа по отношению к формирующемуся славянскому типу. В других работах Данилевский критикует теорию естественного отбора Дарвина с позиций естественного богословия.
Оригинальным философом был Н.Ф. Федоров, автор «Философии общего дела», создавший концепцию всеобщего воскресения из мертвых, предлагавший толковать пророчества Апокалипсиса как условные. Напротив, философ-эстет и апокалиптик К.Н. Леонтьев не верил во всеобщее спасение, не был устремлен к преображению человечества и мира, утверждал неизбежность апокалипсиса. Он считал, что неравенство способствует возрастанию бытия, равенство же ведет к деградации жизни и к небытию; все цивилизации, культуры, общества после расцвета обречены на неизбежное дряхление. С этих позиций монах-философ подвергает острой критике концепцию прогресса, который является примером деградации, «Антихрист идет», – говорил он о состоянии современного мира. Леонтьев предвидел страшную катастрофу России, и, вместе с тем, верил в ее воскресение, но только на византийских началах.

Из церковной среды А.М. Бухарев (архимандрит Федор), развивал христологию: Сын Божий стал человеком ради всякого человека, Агнец был заклан до сотворения мира, и Бог творил мир собственным распятием. «Мир явился мне не только областью, во зле лежащей, но и великою средой для раскрытия Благодати Богочеловека, взявшего зло мира на себя» (А.М. Бухарев). Христианскую антропологию развивал профессор Казанской духовной академии В.И. Несмелов, предвосхитивший принципы экзистенциальной философии и этим повлиявший на Бердяева. Концепции профессора Московской Духовной академии М.М. Тареева предвосхитили ряд идей философии жизни, экзистенциализма и диалектической теологии неопротестантизма XX века. Очень разных русских философов объединяли общие интуиции бытия и близкие философские подходы, которые с самого начала отличали их от европейских коллег: «Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося Боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа миротворения. Это – отличие русской религиозной мысли от западной... Русская религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем католическая и протестантская антропология, и она идет дальше антропологии патристической и схоластической, в ней сильнее человечность... Русская мысль – существенно эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы» (Н.А. Бердяев).
Таким образом, при формировании русской философии XIX века определились основные ее интенции. Прежде всего, русский ум отказывается от интеллектуального европоцентризма и обращается к религиозным истокам культуры, русская философия становится по преимуществу религиозной. Философский гений вслед за писательским обращается к Православию, ищет источники вдохновения в русской культуре, в отечественной проблематике. И в отталкивании от гипертрофированного западного рационализма, и в темах, и в методологии русская философия развивается в русле платоновской традиции, испокон веков передающейся через православный эллинизм, патристику и русское Средневековье: от платоновского образного мышления – к экзистенциальному, от платоновского идеализма, созерцания мира вечных идей, – к богосозерцанию и созерцанию драмы творения Божьего. С самого начала русский философский ум охватывает широкий круг проблем. В постановке бытийных вопросов и в методологии русская философия во многом предварила развитие европейской философии новейшего времени. Философия России XIX века обогатила русскую культуру, усложнила национальное сознание. Русская философия изначально является мета-экзистенциальной: ориентирована на духовные основы бытия, отвечает на вопрошания национального духа, соответствует национальному характеру и умозрению. Все это во многом предопределило характер русской философии века XX.
России XIX - XX веков, для которого характерно свободное философствование на религиозные темы. Ключевую роль в формировании этого течения сыграло развитие идей В. С. Соловьева. Он, в свою очередь, развивал идеи софиологии и основал такое философское течение, как метафизика всеединства. В. С. Соловьев говорил об особом вкладе, который должна сделать Россия для развития цивилизации.
П. А. Флоренский был одним из наиболее интересных мыслителей, с именем которого связана религиозная философия в России. Во многом его взгляды расходились с воззрениями Соловьева. Он развивал собственное учение о Софии (под которой понимал «идеальную личность мира») на базе православной мысли. Философ стремился сочетать научные и религиозные представления, подчеркивая, таким образом, «двуединость» истины.
Философию всеединства продолжил С. Н. Булгаков. Перейдя от марксизма к идеализму, он разработал концепцию «христианского социализма». Он продолжил развивать учение о Софии как «принципе творческих энергий в Единстве», различая ее божественную и земную сущности, вследствие чего говорил и о двойственности мира. История является преодолением зла, что связано с возможностью всемирно-исторической катастрофы.
Русская идея в философии ярче всего проявилась в главном оригинальном в России - философии всеединства. Ее идеи развивал и Л. П. Карсавин, в чьих работах они превратились в философию личности. Назначением человека он считал устремление к Богу и приобщение к Божественному бытию, под которым понималось «лицетворение» (становление истинной личности).
Религиозная философия включает в себя и традицию Это особое мировоззрение, признаками которого считаются эволюционистское понимание космоса (решающую роль в нем играет творческая активность людей и наука), рассмотрение человека и мира (космоса) в неразрывной связи, признание необходимости единства («соборности») всего человечества. Направление имело две самостоятельные ветви: религиозно-философскую (В. Н. Ф. Федоров, Н. А. Бердяев) и естественнонаучную (К. Э. Циолковский, Н. А. Умов, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский). Особое место в космизме принадлежит идее преодоления смертности человека через любовь.
Яркий представитель космизма - Н. Ф. Федоров, разработавший в своих трудах оригинальную религиозную утопию, в которой он говорил о том, что «человечество - орудие Божье в спасении мира», находящегося в центре хаоса и вражды, которые ведут к разрушению. Задачей человечества является спасение мира с помощью научного управления природой.
К естественнонаучной ветви относится учение К. Э. Циолковского. Он рассматривал космос как одухотворенный, живой организм. Мир и человек пребывают в процессе прогрессивного развития, орудием которого служит человеческий разум.
Выдающийся ученый В. И. Вернадский - еще один представитель этой ветви религиозной философии России. Он рассматривает феномен жизни в связи с разными планетными сферами. В. И. Вернадский разработал теорию биосферы (совокупности всего живого), ввел понятие живого вещества («всюдности» жизни). Также он сделал заключение о зарождении ноосферы, под которой понимал управляемую на основе науки природу.
В начале ХХ века религиозная философия переживает мировоззренческий поворот. Происходит К религиозному поиску обращаются многие крупные философы, возникают целые религиозно-философские общества.
Символом этой эпохи стал Н. А. Бердяев - один из самых ярких представителей периода «серебряного века». Он известен как экзистенциалист и религиозный персоналист. Центром его учения является человек, которого он рассматривал как богоподобное существо. Главными темами его философии были свобода (основа бытия), творчество (средство совершенствования) и личность (первооснова всего). Субъективизм и индивидуализм человека преодолеваются с помощью любви в Божественном начале.
План
1. Особенности русской религиозной философии.
2. Славянофилы и западники
3. Материалистическое направление в философии и русский марксизм.
4. Особенности русской религиозной философии.
Конец XIX -начало XX века ознаменовался глубоким кризисом, охватившем всю европейскую культуру, явившемся следствием разочарования в прежних идеалах и ощущением приближения гибели существующего общественно-политического строя.
Но этот же кризис породил великую эпоху - эпоху русского культурного ренессанса начала века - одну «из самых утонченных эпох в истории русской культуры. Это была эпоха творческого подъема поэзии и философии после периода упадка. Это была вместе с тем эпоха появления новых душ, новой чувствительности. Души раскрывались для всякого рода мистических веяний, и положительных и отрицательных. Никогда еще не были так сильны у нас всякого рода прельщения и смешания. Вместе с тем русскими душами овладели предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир... Религиозные философы проникались апокалиптическими настроениями. Пророчества о близящемся конце мира, может быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца старой, императорской России. Наш культурный ренессанс произошел в предреволюционную эпоху, в атмосфере надвигающейся огромной войны и огромной революции. Ничего устойчивого более не было. Исторические тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние... В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни» .
Наряду с течениями в литературе возникли новые течения в философии. Духовным источником религиозной философии явилось православие как специфический духовный и жизненный уклад. В центре её внимания находилась тема Бога и человека , взаимоотношения между ними. Она носит всеохватный характер . В ней с религиозных позиций были осмыслены такие проблемы, как :
Природа человека, его свобода, смерть и бессмертие;
Гуманизм и его кризис;
Смысл человеческой истории;
Ряд важных социальных вопросов.
Центральной фигурой во всей русской религиозной философии является В.С. Соловьев . Соловьев во главу угла своей философской концепции ставил религию и стремился подчинить ей философию, науку, этику, будущее государственное устройство. Он резко критиковал материализм и атеизм , представляя их как учения безнравственные, опустошающие природу человека и ведущие людей в тупик. Вопрос о взаимоотношении материального и духовного Соловьев решал с позиции объективного идеализма. Начало всего сущего - абсолютное, т.е. бог . Бог воспринимает не разумом, а только через веру. Бог содержит в себе вечные идеи, т.е. идеальный мир. Этот идеальный мир порождает мир физический. Этот физический мир связан с богом через человека, который обладает и материальной и идеальной субстанциями.
Возможность познания человеком окружающего мира Соловьев связывал с верой в бога - познание через веру .
В. Соловьев являлся автором теории вселенской теократии . Он считал, что в отношениях между собой люди должны забыть все распри и руководствоваться христианским учением о любви к ближнему. Этот же принцип должен был положен в основу между отдельными государствами. Легче всего его может осуществлять христианская религия. Чтобы претворить в жизнь христианский принцип «любви к ближнему» и окончательно исключить из общества классовые и национальные противоречия, православной, католической и протестантской церкви необходимо слиться воедино под эгидой Римского папы и русского самодержавия, образовав вселенскую теократию.
Последней работой В. Соловьева стали «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории...», посвященные развернутой критике религиозно- философского учения Л. Толстого.
Его обращение к проблеме мирового зла предстает как закономерное, ибо её всестороннего исследования оправдание добра оказывается неполным.
Исследуя мировое зло В. Соловьев последовательно опровергает тезис о непротивлении силой и показывает необходимость войны в обреченном на совершенство мире. И только по мере совершенствования мира война исчезнет из мира людей.
Ярким и многогранным явлением в русской религиозной философии была фигура Н.А. Бердяева .
1. Философию он считает чистым творчеством в отличии от науки, которая всегда должна приспосабливаться к необходимости бытия.
2. Исходя из творческой природы философии он предлагает свою концепцию миростроения , ориентированную на человека :
В качестве первореальности выдвигается история и природа. Они вечны и включают в себя несотворенную свободу.
Всё зло в мире истекает из этой свободы (Зло - это испытание, посланное людям благим Богом).
-В итоге - Бог мир создает, Себя в мире проявляет, но не управляет миром.
-Человеку Бог необходим как нравственный идеал и надежда на спасение.
-Богу нужен человек, как покаявшийся грешник, стремящийся к богочеловеческому образцу.
-Достичь этого результата человек может лишь через катастрофу, конец света, страшный Суд.
-В результате наступит новый мир - вечное царство свободы и духа, человеческое бессмертие.
Личность у Бердяева представляет собой сосредоточение индивидуальных духовных сил и сферу свободы. Она постоянно испытывает давление со стороны общества, которое стремиться поработить личность, включив её в какую- нибудь общность.
Истинная свобода личности заключается в «соборности », концентрации индивидуальной духовной силы и воли, т.е. подразумевается верховенство личного начала над коллективным.
Идеи Бердяева оказали значительное влияние на развитие французского экзистенциализма.
С.Н. Булгаков своей центральной задачей считал обоснование целостности христианского мировоззрения (в 1918 году он принял сан священника).
Все социальные отношения и культура должны быть оценены и перестроены на религиозных началах.
Н.О. Лосский главную задачу философии видел в том, чтобы построить теорию о мире как едином целом на основе прежде всего религиозного опыта. Центральный элемент мира - личность.
П.А. Флоренский также разрабатывал религиозно- философскую проблематику, в центре которой - идущее от В. Соловьева концепция о всеединстве и учение о Софии, учение об интуитивном образносимволическом постижении мира основывающееся на нравственном учении личности.
2. Славянофилы и западники
Становление самобытной русской философии начиналось с постановки и осмысления вопроса об исторической судьбе России. В напряженной полемике конца 30-х - 40-x ã.ã. ХIX в. о месте России в мировой истории оформились славянофильство и западничество как противоположные течения русской социально-философской мысли.
Главная проблема, вокруг которой завязалась дискуссия, может быть сформулирована следующим образом: является ли исторический путь России таким же, как и путь Западной Европы, и особенность России заключается лишь в ее отсталости или же у России особый путь и ее культура принадлежит к другому типу? В поисках ответа на этот вопрос сложились альтернативные концепции русской истории.
 1839 ã. в московских светских и литературных салонах стала распространяться записка "" О старом и новом"". Её автором был Александр Степанович Хомяков, участник кружка, в котором через много лет встретились повзрослевшие друзья юного Веневитинова (братья Киреевский, А.И.Кошелев). К ним присоединились Ю.Ф.Самарин, И.Д.Беляев, братья Константин и Иван Аксаковы.Членов нового кружка стали называть славянофилами.
Сущность славянофильства определялось идеей «несхожести» России и Запада, самобытности русского духовно-исторического процесса (сам термин «славянофильство» достаточно условен и выражает лишь их общественно политические позиции).
Все основные идеи славянофилов тяготеют к полюсу тотальности:
-Критика западной цивилизации как якобы «безбожной», низменной, бездушной.
-Православие - духовная основа русской нации, подлинный двигатель исторического процесса;
-Монархия - идеальная форма государственного устройства России, наиболее полно выражающая дух и традиции русского народа;
-Крестьянская община, патриархальная семья- социальная основа общества, внутри которого только и возможен подлинно нравственный человек;
-Соборность - выражение коллективного духа россиян, их общинного («хорового») начала в образе жизни. Соборность есть собирание , соединение всех сил ради общего дела.
-Русский народ - это особый народ (народ - богоносец), призванный к высокой роли в мире.
По сути дела, славянофильство - это философия религиозно окрашенного коллективизма. Задачу последующего развития России они видели в том, чтобы дух православия пронизал весь общественный организм , придал ему высший смысл в развитии . Свобода индивида возможна, но лишь путем подчинения его абсолютным ценностям - авторитету религии и церкви, государству, своему народу.
В полемике со славянофилами складывалась русская философия индивидуальности, тяготевшая к тем или иным формам западничества.
Простые пастухи первыми пришли ко Христу в Рождественскую ночь, но мудрецы-волхвы тоже пришли и поклонились Ему, ведомые не только звездой, но и древними науками. Но нужны ли сегодня религиозные философы и зачем они нужны?
То, что многие журналисты не любят рыть глубоко, я знал давно. Поэтому как заголовок, так и подзаголовок статьи из «НГ Религии» про американского религиозного философа Алвина Плантингу (Alvin Plantinga) меня не удивил. Заголовок был претенцеозен и бил по нервам в стиле «Коммерсанта»: «Философ, воскресивший Бога». Подзаголовок сразу сбивал с толку: «Первая книга Плантинги, представленная по-русски, называется «Аналитический теист»».
«Бред полнейший!», – подумал я. Ну ладно, может быть журналист не хочет использовать шпионский гугл (хотя НГ-шный журналист вряд ли поперхнется, узнав, что и за ним следит АНБ), но наш-то яндекс быстро выдаст первую книгу Плантинги на русском со всеми библиографическими данными: «Плантинга А. Бог, свобода и зло. Пер. с англ.- Новосибирск. ВО «Наука», Сибирская издательская фирма. 1993.- 108 с.». Так что русскоязычные читатели, те кто в теме, конечно (в отличие от журналиста А.В. Храмова), давно читают Алвина Плантингу, действительно одного из ведущих современных религиозных философов аналитического направления. Правда НГ-шный журналист не обинуясь заявил, что Плантинга воскресил религиозную философию в западной академической среде. Я опять поперхнулся: А Леннокс, Суинборн?… Они ж в общем-то ровесники Плантинги!… Ну ладно, простим журналистам, жертвам медиареволюции 90-х гг. прошлого века. Песенка «Трое суток шагать, трое суток не спать / Ради нескольких строчек в газете» явно не про современную журналистику.
«Вековое предназначение христианской религиозной мысли: возвращать к Богу заблудившихся интеллектуалов»
Простим ему, потому что Плантинга хоть и не первый и отнюдь не последний религиозный философ, да и религиозную философию на Западе он не воскрешал, но всё же фигура весомая. Он приручил и вернул христианам один из изощреннейших инструментов человеческого сознания: неопозитивизм (он же «аналитическая философия»). Этим он исполнил вековое предназначение христианской религиозной мысли: возвращать к Богу заблудившихся интеллектуалов.
Да, простые пастухи первыми пришли ко Христу в Рождественскую ночь, но мудрецы-волхвы тоже пришли и поклонились Ему, ведомые не только звездой, но и древними науками. Так же точно, как считал Климент Александрийский, философия нужна была эллинам как «детоводитель», «педагог», ведущий ко Христу. Под эллинами он подразумевал всех причислявших себя к лучшей интеллектуальной культуре того времени – эллинизму. Эти люди никак иначе не могли обратиться к Богу, кроме как путем рассуждений и доказательств. А философия вырабатывала инструментарий для подобных рассуждений, создавала понятия и категории, с помощью которых можно было рассуждать о высших материях. Поэтому святые отцы древности не чуждались философского образования.
Мы обычно думаем, что самым страшным еретиком IV века был Арий. Это во многом так, но у него был не менее одаренный и не менее упорный сторонник, блестящий интеллектуал Евномий. Его рассуждения и сейчас способны своей безупречностью поразить неискушенного слушателя. Вот одно из рассуждений Евномия, с помощью которого он доказывал, что Сын Божий не единосущен Отцу. Описывая Бога-Отца, мы без сомнения согласимся, что по существу Он неизменен, бессмертен, неописуем, премирен, не подвержен изменению, не сотворен и не рожден. Ну а дальше Евномий применяет простой и очевидный силлогизм: Сын Божий – рожден. А значит, Он иной сущности, чем Отец. Значит, Он не единосущен Отцу, а только подобосущен. Так, как он считал, разрушается богословская система святителя Афанасия Великого, защищавшего православие на I Вселенском соборе. По предложению святителя Афанасия был составлен Никейский Символ Веры, центром которого стало утверждение о единосущности Сына Отцу.
Только изощренное философское образование помогло святителю Василию Великому последовательно разрушить философские хитросплетения Евномия. возьмем вышеприведенное. Святитель Василий обратился к анализу понятий и без труда показал, что есть понятия, в которых мы нечто утверждаем о Боге, а есть те, в которых мы отрицаем у Бога свойства, которых у Него нет. Только положительные понятия могут описывать сущность, а сущность непостижимого Божества не могут описать и они. А уж отрицательные понятия тем более не описывают сущности. Поэтому Бог Отец – да, нерожден. Но нерожденность не есть сущность Божия. А потому разрушена главная посылка Евномиева силлогизма, и из нерождженности Отца, рожденности Сына и исхождения Святого Духа не следует разность сущностей. А потому православные всегда исповедовали и исповедуют «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную».
Много было еще философских споров в древней Византии. Можно тут вспомнить и преподобного Максима Исповедника, который своими «схолиями» (комментариями) к «Ареопагитикам» выбил из рук еретиков изощренные философские труды, приписываемые святителю Дионисию Афинскому. А преподобный Иоанн Дамаскин, прежде чем обличать ереси и утверждать православие в своей трилогии, первую книгу посвятил диалектике, то есть искусству философских рассуждений.
А потому неудивительно, что религиозная философия стала на определенном этапе важной дисциплиной при подготовке священнослужителей. Она преподавалась в Киево-Могилянской академии, откуда пошла традиция и российского семинарского образования. А в XIX веке в среде духовного образования сложилась целая традиция религиозной философии, названная «школой верующего разума».
Философская школа духовных академий хотя и развивалась во многом изолированно от светской философской мысли, но не только не была «отстающей», а во многом опережала светскую философскую школу. Дело в том, что если в университетах кафедры философии на протяжении XIX века два раза закрывались и, соответственно, прерывалось изучение этой дисциплины, то в духовных академиях существовала непрерывавшаяся традиция философского образования. Начиная с 20-х годов XIX века в академии проникает изучение классической немецкой философии, которая постепенно вытесняет лейбницианство Христиана Вольфа.
В основе философии «школы верующего разума» было не просто признание истины бытия Божия, но особенное сознание присутствия Бога в мире. Так, протоиерей Федор Голубинский, основываясь на мысли из Ареопагитического корпуса о том, что «все сущее имеет нечто общее с Виновником бытия», учил о том, что разные ступени бытия представляют образ (хотя и в разной степени) Сущего в подлинном смысле слова, т.е. Бога как источника бытия. То есть бытие, жизнь и разум проистекли из Бытия, Жизни и Разума Самого Бога. Таким образом, человек силой своего разума может прийти к постижению Премудрости Божией. Это Богопознание есть «опосредованное откровение», которому навстречу идет непосредственное Откровение Бога человеку в истории. Так в «школе верующего разума» раскрывалась мысль святого Иринея Лионского: «Бог не познается без Бога».
В.Д. Кудрявцев-Платонов, ставший преемником протоиерея Феодора Голубинского по кафедре философии, развивал философские взгляды своего учителя в системе трансцендентального монизма, в центре которой лежит понятие Абсолюта, Бога. Он отвергал крайности как материализма, так и идеализма, предвосхищая христианский реализм русской философии начала XX века. В теории познания он последовательно развивал учение о субъективности человеческого знания и врожденных основаниях познавательного процесса. Объективность познанию придает деятельность познавательной силы человека, которая обладает внутренней способностью к восприятию идей. Воздействие Бога на духовное чувство человека делает возможным богопознание, при условии деятельного стремления души, открытости души к впечатлениям горнего мира.
В эпоху революционных бурь религиозная философия не осталась без дела. Конечно, путь к религиозному мировоззрению у каждого человека уникален. Бывают цельные натуры, которым открыт путь простой веры, тогда как путь искушенного в философских вопросах мыслителя часто извилист и тернист, наполнен сомнениями, колебаниями, поиском ответа на трудные вопросы жизни. Таким был путь многих русских интеллигентов, которые в молодости под влиянием революционной пропаганды, руководствуясь высшими идеалами, отвергли веру в Бога. Но затем они увидели, что социальная борьба не способна наполнить жизнь добром и справедливостью: для того чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно духовно-нравственное совершенствование каждого члена общества, и начинать этот путь необходимо каждому с себя.
Столкнувшись со стихией террора и революции, многие русские мыслители обрели духовную опору в религиозной вере. В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский составили славу русской философии. Их труды до сих пор читают, цитируют. Некоторые, как, например, «О достоинстве Христианства и недостоинстве Христиан» Н. Бердяева приобрели неожиданную актуальность в настоящее время.
Так что не только на Западе, но и у нас в России есть целая плеяда замечательных религиозных философов. Многие, как С. Хоружий и А. Кырлежев живы и здравствуют, пишут статьи и книги.
Остается, правда, вопрос: а нужны ли сегодня религиозные философы?
Судя по официальному признанию в среде интеллектуалов, судя по влиянию, на Западе такие колоссы как А. Плантинга и Р. Суинборн – нужны. Поэтому их рассуждения прочитаны теми, кто хотел бы найти рациональные доводы для веры в Бога: «Я ограничусь рассмотрением рациональности веры в существование Бога – центральной и фундаментальной для любой теистической религии. В этой и трех последующих главах я намерен последовательно и осторожно рассмотреть три традиционных и известных раздела натуральной теологии, которые Кант в свое время назвал космологическим, онтологическим и телеологическим доказательствами существования Бога» (цитата из книги А. Плантинги «Бог и другие сознания». Так Плантинга начинает вновь штурм бастиона, когда-то после Канта оставленного религиозной философией: знаменитые доказательства бытия Божия Ансельма Кентерберрийского, Фомы Аквината.
Как мы знаем из Булгакова, немецкий философ Иммануил Кант «начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство» (М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»). Это не совсем так. Кант действительно свел все доказательства к онтологическому, разрушил онтологическое доказательство Ансельма-Декарта и предложил не новое доказательство, а нравственный аргумент: верить в Бога нужно, для того, чтобы быть нравственным. Профессор Осипов в своей знаменитой книге «Путь разума в поисках истины» всё-таки называет эти доказательства аргументами.
Алвин Плантинга вновь задался вопросом: можно ли найти новые рациональные аргументы для современного мыслителя для веры в Бога? Для этого он разбирает причины неудач мыслителей прошлого и предлагает свои доводы на языке формальной логики. Тех, кто отважится пробиться через эти логические дебри, мы приглашаем прочесть фрагмент книги философа, опубликованный в журнале «Вопросы философии» № 1 за 2011 год «Бог и другие сознания. Глава первая. Космологический аргумент».
Мы конечно, очень современны, но ушли ли мы вперед интеллектуально? Мы сейчас и слов-то таких не знаем: «онтологический», «телеологический» – куда нам понять хитросплетения мысли средневековых схоластов, доказывавших существование Бога! Но нам тоже интересно понять: если мир так премудро устроен, это всё само собой произошло или всё же Высший Разум всё сотворил? Есть и другие интересные вопросы: имею ли я свободную волю, могу ли я действовать как хочу или я игрушка моих мотивов? Этот вопрос также изучает религиозная философия. Об этом вышеупомянутая книга Плантинги, об этом книги Н. Лосского «Свобода воли», С. Левицкого «Трагедия свободы».
«Религиозная философия есть ответ умного верующего человека на актуальные вопросы современности»
Только не путайте религиозную философию и философию религии. Философией религии могут заниматься не только верующие, но и атеисты. А вот религиозная философия, как ответ умного верующего человека на актуальные вопросы современности, важна как никогда именно для верующих.
Думаю, что время для возрождения религиозной философии пришло и в отечественной интеллектуальной традиции. Потому что пришло время для диалога с образованными людьми. Пришло время доказать, что православие может рождать и собственных «Платонов и быстрых разумом Невтонов», способных убеждать аргументами и доказательствами, а не только громкими акциями. Профессор А.И. Осипов тому пример. Дай Бог – не единственный.
Вконтакте